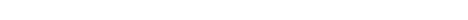Кто меня знает, знает, что я люблю, чтоб в произведении искусства было ЧТО-ТО, чему не находится слов, по крайней мере, поначалу.
Я сидел, читал книгу маленьких эссе Илличевского “Справа налево” (2015). Читал очередной миниопус “Рыба”, отнесённый к рубрике “ПРО ГЕРОЕВ”. Почему автор так отнёс, было не понятно. Про старика с внуком, на Оке ловивших дырявой сетью рыбу на прокорм себе. И сеть с жалким уловом была отнята нагрянувшим рыбнадзором. Со смущением. Понятно, что надо было сделать исключение по случаю дырявости сети. – Нет. Неуклюжая до антинародности власть не может быть тонкой.
Такое авторское внушение нам, читателям.
При чём тут “ПРО ГЕРОЕВ”?
То самое ЧТО-ТО тут? Или что?
Мысль буксовала.
Я включил телевизор. Там какой-то немец (по акценту) интервьюировал какого-то учёного по поводу национального парка вокруг, по-моему, Кемозера. Спрашивал, как, когда сюда люди пришли жить. – Волнами, - отвечал учёный, - первая: новгородцы бежали от присоединения к Московскому государству при Иване III, вторая – от опричнины Ивана Грозного, третья – старообрядцы от раскола… Опять антинародная власть.
А после, в другой программе, стала какая-то женщина петь такое, что со мной что-то стало, и я бросился к компьютеру по запомненной строчке: “Растворились в дорожной пыли”, - искать, чтоб понять, что это такое со мной. – Оказалась песня Высоцкого “Мы вас ждём” (1972). Я, конечно же, её слышал раньше. Вот в чём содержание ЧЕГО-ТО?
| |
Так случилось - мужчины ушли.
Побросали посевы до срока, -
Вот их больше не видно из окон -
Растворились в дорожной пыли.
Вытекают из колоса зерна -
Эти слезы несжатых полей,
И холодные ветры проворно
Потекли из щелей.
Мы вас ждем - торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины…
А потом возвращайтесь скорей:
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины.
Мы в высоких живем теремах -
Входа нет никому в эти зданья:
Одиночество и ожиданье
Вместо вас поселились в домах.
Потеряла и свежесть, и прелесть
Белизна ненадетых рубах,
Да и старые песни приелись
И навязли в зубах.
Мы вас ждем - торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины…
А потом возвращайтесь скорей:
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины.
Все единою болью болит,
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомленных, нецелых - любых, -
Только б не пустота похоронных,
Не предчувствие их!
Мы вас ждем - торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины…
А потом возвращайтесь скорей,
Ивы плачут по вас,
И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. |
Я послушал её всю (ну хоть тут слушайте). И слёзы почему-то текут. – Опять ЧТО-ТО?..
Что?
Несчастная Россия? То внутренние войны, то внешние… Что за рок такой? – И у Высоцкого что-то лишён текст временной привязки. С Великой Отечественной на поездах возвращались, ну, на попутных грузовиках по просёлочным дорогам, а не "Мы вас встретим и пеших, и конных”. И этот "Вековечный надрыв причитаний”… – Что это Высоцкий – в надвременье ударился? В вечное преодоление нехорошего? Отрицаемое… – Или он так принимаемое воспевает? – Что? Тяготы народные, вековечные? Если не от врагов внешних и внутренних, то от суровой природы – "холодные ветры”? – Нет. Не то. Повторы внушают, что перенесение непереносимости тут главное. О терпении негатив ("без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины”). И о верности позитив ("Мы в высоких живем теремах”). – Это, наверно, гимн менталитету, какой он ни есть. Потому "Мы” здесь – женщины. Их героизм. Что довольно неожиданно для выражения идеала трагического героизма, присущего Высоцкому в 1972 году (да и чуть не до смерти), для выражения которого он всегда выбирал мужчин. – Менталитет – он надвременной таки. И точнее на селе хранится, чем в городе. И потому тут "посевы до срока”, кони и всякие деревья: ивы, рябины, - а также молитвы. И ещё Высоцкому важен небольшой коллектив, как на селе: все всех знают. В таком и сохраняется, и выражается лучше идеал самодеятельности, который потому трагический и героический, что песня создана после краха шестидесятничества, левое крыло которого хотело было спасти социализм, заболевший полным отказом от самодеятельности (ибо она в виде ежедневного всё большего вытеснения центральной власти есть едва ли не суть социализма).
Такой социализм и мой личный идеал. Не оттого ли мои слёзы?
А, раз так непросто было докопаться до их причины, то не значит ли это, что сама эта самодеятельность была именно подсознательным идеалом у самого Высоцкого. – И я оказываюсь на своём коньке, что художественно только то, что выражает подсознательный идеал.
Он здесь одним коротким словом называется, вообще-то, - анархией. Только не хаосом, до чего довели понимание её массами, довели враги, довели главные её идейные враги – главные идеи века: фашизм, либерализм и социализм. И такое затурканное состояние в ХХ веке того, что когда-то на Руси называлось вечем в городах или общиной в сёлах, - такая маргинальность существования этой великой идеи в свою очередь говорит, что она могла больше существовать как идеал в подсознании, чем в сознании. Что очень полезно для художественности её выражения.
12 ноября 2017 г.