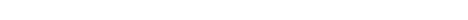Я остолбенел, красно говоря, от этой картины.

Названия не нашёл. Художник Павел Кузнецов. Был символистом в начале ХХ века. Борисов Мусатов на него когда-то повлиял.
Я искал, что бы могло мне шепнуть, как это его угораздило такую ослепительность нарисовать такими тусклыми красками.
На самом деле поиски были суетой: вдруг я смогу что-то внятное сказать по поводу того, что такой необычный цвет для воды он придумал.
Или меня пронзило, что тень от ребёнка и женщины никак не продлилась в воде. Или что такая зеркальная гладь воды у самого берега, тогда как в нескольких шагах от него уже на воде есть рябь. И потом сырой песок же виден – то есть только что, минуту назад, он был под какой-то микроволной… А миг прошёл и – зеркало-вода…
Что меня так взбудоражило?
Декоративность?
"Этот удивительный художник всегда склонялся к монументальности” (http://vladimir71.mirtesen.ru/blog/43559950431/Hudozhnik-Kuznetsov-Pavel-Varfolomeevich).
И монументальность ведь режется с жанровой картиной, а тут именно жанр: семья на пляже.
Или он хотел крикнуть: “Счастье!” Именно крикнуть, и потому – монументальность…
Нет. У меня не хватит никаких слов, чтоб передать, что у меня в душе творится от смотрения на эту репродукцию.
От прилива счастья слепнут, наверно. Не потому ли тут такая нерезкость. Лица могли б быть лучше видны. Однако, какая ж нерезкость, когда все контуры аж обведены?
Фигуры очень скульптурны, как из отполированной светлой бронзы. А в то же время ощущение марева. Воздух, чуешь, дрожит от жары.
Именно воздух. Он тут какой-то густой. В обычном – тени резче гораздо. Всё контрастнее. А тут всё как в дымке. Парит. А пляж, наверно, бесконечно длинный, прибалтийский. Песок не раскалённый, не сковородка на огне, как на Чёрном море. И просторно.
Или не дымка, а как сквозь ресницы смотришь на всё.
Я вспоминаю, как я надцатилетний лежу на пляже, одуревший от жары, на спине, набросив на голову шёлковую рубашку, отчего солнце пробивается так, что выглядит, как радужные звёзды. И никаких мыслей в голове.
Понятно, почему книга отложена. – Тупо смотрит перед собой и парень на картине. Тупо несёт с собою куклу девочка, и тупо тянет маму к воде. А мама тупо подчиняется и даже направляет. Всё – сермяжность. А художник, как Бог с неба, смотрит и радуется, как он хорошо всё устроил.
Знать бы хоть дату создания… Что за благое время?
Умер он в 1968-м. Время застоя, так называемого. Я говорил тогда лентяйкам-сослуживицам: вы живёте, как в раю; а знаете, что из рая-то – выгнали?
А тут – рай. Женщина в бикини, но пупок ещё лишь чуть открыт – 60-е годы это. Я с толстой книгой, как у этого парня, тогда на пляж на речку в воскресенье хаживал, хоть мне и удивлялись. Время моей молодости. Не его ли чуя, я так волнуюсь?
"Мастеру Кузнецову свойственна некая отличная от остальных созерцательность” (http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-pavla-kuznecova-mirazh-v-stepi/).
Точно. Тут уж хотя бы тем это выражено, что горизонта нет.
"…человеческие фигуры, будто случайно увиденные мастером, специально выполнены немного размыто и расплывчато, будто привиделись не только художнику, но и впоследствии зрителю” (Там же).
Точно.
"…поток гаммы цветов. Такая техника создает особенный матовый стиль, наполняя картину свечением” (Там же).
Точно, хоть написано о совсем другой картине.
Но свечение свечением, а здесь же оно – тусклое! Что если?..
Жутко подумать…
Что если это про скуку обычной жизни? Не до предвзрыва от тоски доводящую, как у читателей Чехова… Не с крайним неприятием. А так. Малохольно. Отстранённо. Словно буддист. Когда-то давно ужаснулся тому, что есть на земле страдания, болезни и смерть, и хотел улететь мечтой в благое сверхбудущее, как символист, да ерунда это. И – улетел мечтой в противоположное, в сейчас и здесь существующую нирвану. Долететь в неё не долетел. Но где-то там, наверху, так и остался. И путешествие в Среднюю Азию когда-то подсказало такой улёт. А теперь, дома, он по-настоящему удался.
Марево самосветящееся.
И – каждый для себя. И папа, и девочка. Лишь мама поневоле ещё живёт пока не только для себя. Но то только пока. – Пустота и свобода уже начались.
"В мире Кузнецова как-то особенно свободно дышится, ощущается безмерность потока пространства и времени. Они как живой родник очищают усталую душу” (http://stoicka.ru/Joomla_3.2.0_Full_Package_Russian/index.php/component/content/category/39-pavel-kuznetsov).
Всё сходится. Только написано для времени поездки в Среднюю Азию, а годится – для прибалтийского бесконечного и пустого пляжа.
"Бегство Кузнецова от удушливой жизни городов в киргизские степи напоминает бегство П. Гогена на Таити, но если для Гогена это был разрыв с европейской культурой, то для Кузнецова, при всей своей неожиданности, это бегство было давно желанным возвращением в мир детской мечты. Ведь степь начиналась возле Саратова” (Там же).
Хоть и написано это о более раннем времени – годится, будучи профильтрованным. И потом – ницшеанство (см. тут), в которое впал Гоген, совсем не "разрыв с европейской культурой”, а продление тенденции Сезанна (см. тут).
"Общими свойствами живописи художников “Голубой розы” были: повышенная чувствительность к цвету и его оттенкам… Голубой цвет ассоциировался с водными гладями и бесконечностью небес, находящимися за пределами мирской суеты” (http://www.5arts.info/blue-rose-and-symbolism/).
Активизм советской монументальности ему претил. И раз он над ним посмеялся.

Кузнецов. Пушбол. 1931. Холст, масло.
Это подтверждает догадку о тяге художника к пробуддизму. Символисты под влиянием успехов революции её принимали, как Блок (точно), Сарьян (предположительно). А Кузнецов – нет.
Признаюсь, я не знал, удастся ли мне выйти на осознание глубины художественного смысла странно понравившейся мне репродукции. И, красно говоря, я счастлив, что мне это удалось.
9 июля 2017 г.